В качестве коды спецпроекта «New music view», посвящённого фестивалю новой музыки «Visionaries and Illuminati» агентства Ухо – текст Антония Барышевского, молодого украинского пианиста, который уже не только стал лауреатом множества серьёзных конкурсов, но и зарекомендовал себя как яркий исполнитель современной музыки. Антоний вдохновился концертом Евгения Громова из произведений Уствольской и Фельдмана и поразмышлял о том, что такое «новый слух», как за последние десятилетия изменилась функция интерпретатора и трудно ли прийти в новую музыку из «старой доброй классики».
В одном из немногочисленных интервью Уствольская сказала о своей музыке так: «..Эта музыка новая по духу и по форме и слушать её нужно тоже по-новому». Это скупое высказывание затрагивает крайне важный вопрос: как воспринимать в принципе любое новаторское искусство? За что цепляться слуху, глазу? Как известно, наша вселенная расширяется, и притом делает это с ускорением. Если экстраполировать этот принцип на искусство, то получится, что за 20й век оно ускорилось в запредельном темпе, но человечество явно не поспевает за тем багажом открытий и новых материй, которые были «захвачены» творцами последнего времени. Когда-то этот факт озадачил меня – как же так, куда девалась музыка за последние 50-70 лет? Почему она так мало звучит в больших концертных залах? Почему даже в кругах академистов новая или условно-новая музыка вызывает что-то в диапазоне от насмешки до крайней неприязни? Одна из причин, как мне видится – нежелание разобраться, понять, изучить непривычный язык и – самое главное – настроить «новый слух». Есть такая достаточно спорная теория, что, по сути, музыканты, играющие «старую добрую классику», играют не её, а накопленный уже столетиями исполнительский опыт, используют «звучащий в пространстве» штампованный образ того или иного произведения («мардонг» по Пелевину).
Замечу сразу, что новая музыка интересна же тем, что она, с одной стороны, более очищена от интерпретаторского груза, а с другой – гораздо более регламентирована и, как правило, ограничивает создание этих самых интерпретаций. Говоря об исполнительском опыте, можно то же самое сказать и о слушательском: человек «старого слуха» не может найти в той же Уствольской привычных уху мелодико-гармонических фактур, его пугает громкость и зловещяя навязчивость ритма. Музыка же Фельдмана будет вводить в ступор отсутствием драматургии как таковой («ничего не происходит»). В этом смысле академисту даже сложнее «перестроить сознание» чем человеку, слушавшему doom-metal в одном случае и Sigur Ros в другом. Для меня лично эта «неправильность» является одним из притягательнейших моментов в изучении такой музыки.
Скажем, Уствольская требует к своей музыке, порою, вещей прямо противоположных благородной «романтической» школе игры – резкая аттака звука, самоценность каждой ноты – переосмысленное интонирование (в Пятой сонате она указывает исполнять один из кластеров костяшками сжатых кулаков, при этом звук самого удара должен быть слышен), доходящая и доводящая до абсурда непоколебимость метроритма, абсолютная бескомпромиссность и внутреннее самоотвержение. Последние два пункта были творческим кредо и самой Уствольской – эта музыка и создавалась через преодоление, так же она должна и исполняться и слушаться. Это обстоятельство роднит её, как ни странно – с Бахом. На самом деле настоящее слушание Баха – это тоже труд. Иногда мы можем сказать «да, это здорово» только потому, что это Бах, но не включившись в произведение до конца, сделав оценку почти машинально. В этой связи слушание некоторых опусов Фельдмана является крайним полюсом того же процесса – это труд, в котором задействован уже не мозг, а подсознание или та часть мышления, которая работает на грани сна и яви. Это можно сказать и о Дворце Мари, и о 6-часовом Втором струнном квартете и многих других пьесах, работающих с почти полностью разреженным пространством, размыкающих форму до абсолютной абстракции. От исполнителя тут требуется уже совсем другое касание к инструменту, вслушивание не только в отзвук, но и в полное отсутствие звука – та самоценность пустоты, которая вызывает уже тянущую жажду следующего нарушения тишины и создаёт особое напряжение в общей ткани произведения. Уствольская работает с ударами, Фельдман – с тем, что идёт за ними, Уствольская – графика, Фельдман – « живопись цветового поля».
Надо сказать, каждый композитор – а в 20м веке этот принцип еще более обострился – создаёт не только свою собственную парадигму творчества, но и свой круг выразительных средств для воплощения этих задач интерпретаторами. Да и само это слово становится ненужным, бессмысленным, поскольку ценность интерпретации тут заключается в её максимальном отсутствии: игра на сцене становится не столько вдохновенным само(любованием), выражением, сколько полным подчинением себя композитору, слиянием с его сущностью и со-творением музыки. Музыки, которая воздействует на нас самым разным способом – не только чувственно – но и через подсознание, и через преодоление.
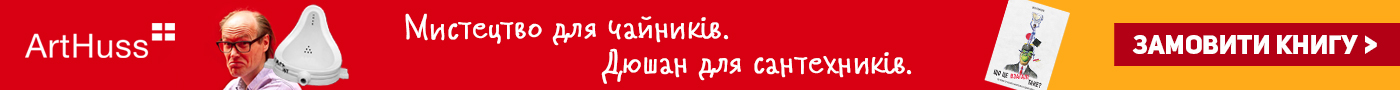








 ЩЕ
ЩЕ
Подписывайтесь на страницу Сhernozem в Facebook